«Судейская функция критика ушла в прошлое»
В нашей уже постоянной рубрике интервью-перевертышей режиссер Артем Терехин говорит с критиком Анной Банасюкевич о ее профессии, новом поколении театральных зрителей, пугающих вызовах времени и одном режиссерском манифесте.
Артем Терехин Как ты пришла в профессию? Был момент, когда ты поняла, что хочешь стать критиком, или это понимание пришло в процессе?
Анна Банасюкевич Я окончила Историко-архивный, несколько лет работала по профессии. Работала, правда, в скучном месте, в чиновничьей конторе. В детстве у меня особо не было театра, ну кроме школьных походов, в основном в Малый и МХАТ Дорониной. Понятно, что это не могло привить любовь к театру. Тем более это вообще такой возраст, когда подростки интересуются больше друг другом, чем тем, что на сцене.
Моя история такая же, как у многих девушек, приходящих в театроведение. Это такой «фанатский» путь. Я посмотрела сериал «Идиот» с Евгением Мироновым, и я была впечатлена уровнем актерской игры. Теперь я думаю, что сам по себе сериал обычный, такой, средний, культурный. А тогда у меня случился инсайт. Я обнаружила, что вокруг меня существует огромный мир искусства, книг, театра, который, несмотря на мое гуманитарное образование, никак со мной не связан. И я начала много читать и решила пойти в театр. Отправилась в театральную кассу в метро и у первой попавшейся бабушки-кассирши спросила совета, куда пойти. Она меня отправила в театр Маяковского, в котором еще был Арцыбашев. На спектакли со «звездами». Мне тогда все нравилось, я была неофитом. Потом я решила, что, раз моя любовь к театру началась с Миронова, то неплохо бы сходить в МХТ и «Табакерку», а это уже все-таки был другой уровень. Фейсбука тогда не было, но был ЖЖ, и уже можно было найти какой-то театральный круг общения. Так я познакомилась с драматургами, которые привели меня на «Любимовку». Новая драма стала областью моих интересов. Тогда же на «Золотую маску» в рамках программы «Лучшие спектакли XX века» привезли додинских «Братьев и сестер», еще с оригинальным составом. И этот спектакль «взорвал мне мозг», поразил степенью правдивости. Одновременно я смотрела спектакли Центра Рощина и Казанцева, «Обломофф» Угарова, «Пластилин» Серебренникова. Казалось бы, где «Братья и сестры», а где «Пластилин», но для меня это все было рядом. Я и сейчас думаю, что это рядом. Не то чтобы я сразу захотела стать критиком, но была потребность описывать и анализировать увиденное. А ЖЖ, в отличие от Фейсбука, такой формат и предполагал. Друзья из ЖЖ (с Павлом Рудневым я тогда там познакомилась) стали говорить: «Может, тебе пойти поучиться?» И я пошла в ГИТИС. Такой путь.
А. Т. Что для тебя такое профессия критика? Со стороны кажется, что это люди, которые катаются по стране, смотрят спектакли, а потом что-то говорят на обсуждениях или пишут какие-то рецензии.
А. Б. Так и есть!
Когда-то один не очень трезвый артист агрессивно спрашивал меня: «А какое вообще вы имеете право оценивать спектакли?» Я тогда, наверное, очень раздражающе ответила: «Ничего не знаю ни про какое право! Просто занимаюсь тем, что мне интересно!» Но так и есть. У меня в профессии совершенно эгоистический интерес. Я не идеолог — в том смысле, что я не люблю размышлять про миссию критики. Я занимаюсь этим, потому что театр приносит мне удовольствие. Сейчас профессия подразумевает разное. Когда еще почти не было театральных продюсеров, критики стали делать фестивали. Так мы стали кураторами. Я чувствую себя профессионально полноценно, когда соединяю эти разные грани — внешний взгляд, аналитику и проектирование, погружение в процесс. Для меня всегда ориентирами были критики, которые делали еще что-то практическое, а главное, задавали какой-то тренд. Сейчас некоторые сомнительные телеграмм-каналы используют это как обвинение в ангажированности. Но я плохо верю вообще в чью-либо объективность и в возможность тотальной, стерильной не-ангажированности. Да и в принципе — в неравнодушии, в амбиции вижу скорее прогресс, чем наоборот. Например, те критики, которые помогали Театру.doc, «Любимовке» и продвигали современную драматургию — для меня пример. Мне кажется, что это достойная функция для театрального критика — высматривать и находить места и источники важного и пытаться всем об этом рассказать. А кто это еще будет делать, если не искусствоведы?
А. Т. Лет восемь назад вышла одна статья, там утверждалось, что сегодня режиссеру не обязательно быть умным. Статья наделала много шума в режиссерских кругах. Мне интересно твое мнение: режиссер сегодня должен быть интеллектуалом, или достаточно быть интуитом?

А. Б. О, я так не люблю императивов: «должен», «не должен»… Это так старомодно — пытаться утверждать, кто каким должен быть. Страшная архаика и адский тоталитаризм, который у нас у всех в головах сидит. Я не помню такой статьи, но в этом контексте хочу сказать, что судейская функция критика ушла в прошлое. Насчет твоего вопроса — наше представление о глупости и уме очень субъективно. При этом негласное разделение существует. Мы не пишем про это, но между собой, конечно, говорим: «Вот этот режиссер — интеллектуал, а этот режиссер — интуит». И мы приблизительно все понимаем, что имеем в виду. Но это все, конечно, условность. Когда я смотрю спектакли, я вижу их уязвимость, скорее, в неточности интонации, нечуткости ко времени, к жизни. В отсутствии у режиссера контекста, в непонимании, как сейчас устроено общение между людьми, как мы обрабатываем информацию. Я как зритель испытываю неловкость. Эта неловкость связана с неуместностью способа, которым театр пытается со мной разговаривать. Вот от чего зависит выбор этого способа, тона разговора — от интеллекта или от интуиции?
А. Т. В начале разговора ты сказала интересную вещь: что подросткам в театре больше интересно общение друг с другом, чем то, что происходит на сцене. Наверное, последние десять лет театры очень активно работают с подростковым зрителем. Что-то за это время изменилось в отношениях театра с подростками, или мы все еще в режиме поиска?
А. Б. Ну да, конечно, театр для подростка изменился, это такая очевидная вещь. Появилось много новой подростковой драматургии. С одной стороны, потому что был запрос от театров, а с другой — потому что сами драматурги помолодели, не взрослые дяди и тети пишут, а вчерашние подростки.
И вообще есть ощущение, что в театрах сейчас много молодой публики. Лет двадцать, двадцать пять назад, когда я была подростком, молодежь вообще очень мало ходила в театр. И до сих пор у моих ровесников из нетеатральных сфер остается представление о театре как о чем-то «нафталинном». Другой вопрос: что эти подростки, которые сейчас растут на крутых спектаклях, будут смотреть во «взрослом» театре через несколько лет? Для какой культурной, общественной и политической ситуации они растут?
А. Т. Ты как раз вышла на следующий мой вопрос. Последние события — я сейчас выскажу свое мнение — показывают, что это новое поколение во многом лучше, чем мы. У них этого кода советского, который есть у нас, просто нет. И как тут быть театру? Странно, когда менее свободный и более закомплексованный человек что-то делает для более свободных и менее закомплексованных.
А. Б. Театр у нас в стране в большинстве своем государственный, и он находится между двух жерновов — между запросом публики и идеологической конъюнктурой. И от этого очень много какого-то безадресного, усредненного искусства. Этакий хороший театр для всех. Мне кажется, что в разговорах о том, что в ситуации несвободы, цензуры искусство расцветает, много мифологии. Да — великий советский театр, но многие мощные ветви были насильственно отсечены. Мейерхольд, Таиров. Если театр испытывает давление, начинается вот эта история с «фигой в кармане» и «эзоповым языком». Театр сосредотачивается на актуальном высказывании, все остальное уходит на второй план. Как-то давным-давно у меня была небольшая дискуссия в сети с автором знаменитого «манифеста» Константином Богомоловым. У меня был восторженный пост об одном спектакле, где режиссер «эзоповым языком» выразил некую политическую позицию, и я писала о том, как внимательно зрительный зал ловит каждое слово. А Богомолов мне тогда справедливо ответил, что вообще это очень печально и ничего тут хорошего нет. По сути, в такой ситуации ты смотришь спектакль не как произведение искусства, а воспринимаешь его как газету, как альтернативное СМИ. И тебе уже не важно, что это за язык, что за эстетика. Это обеднение. История показывает, что обычно удар приходится именно на эстетическое, а не на идеологическое, — борьба с формализмом, с абстракционистами и так далее. «Непонятное» искусство сложно контролировать. За последние лет двадцать-тридцать появился театр сложный, разнообразный, в том числе и эстетически. Поиски, связанные с документалистикой, с постдраматическими приемами, с экспансией на территорию современного искусства. Важно это сохранить.
А. Т. Давай все-таки коснемся больше манифеста Константина Богомолова. Невозможно пройти мимо. Можешь коротко сказать, как ты к нему относишься? И что для тебя вообще в контексте времени и современного театра этот манифест?
А. Б. В последние годы общественно-политическая позиция Богомолова и так более-менее понятна, без манифеста.
А. Т. Это провокация или гражданское высказывание?
А. Б. Мне кажется, что спектакли Константина Богомолова гораздо провокативнее, чем этот текст. Меня здесь ничего не удивило и даже особо не возмутило. За всем многословием и жонглированием терминами я вижу довольно простые смыслы. Разочаровывает некоторое упрощение: текст подается как предложение к некоему интеллектуальному диспуту, а по факту это, скорее, такой агитационный листок. Уже многие высказались, что самого этого термина — «новая этика» — на Западе не существует, он возникает и активно муссируется у нас как пропагандистский ярлык. Да, Богомолов обращается к совсем другой публике, не к той, к которой обращаются пропагандисты с ТВ. Поэтому необходим интеллектуальный, философский антураж. Но если вычленять идею, посыл, то, в общем, все то же самое — про загнивающий Запад и особый путь России. Достаточно архаичные сентенции. Все очень упрощено.
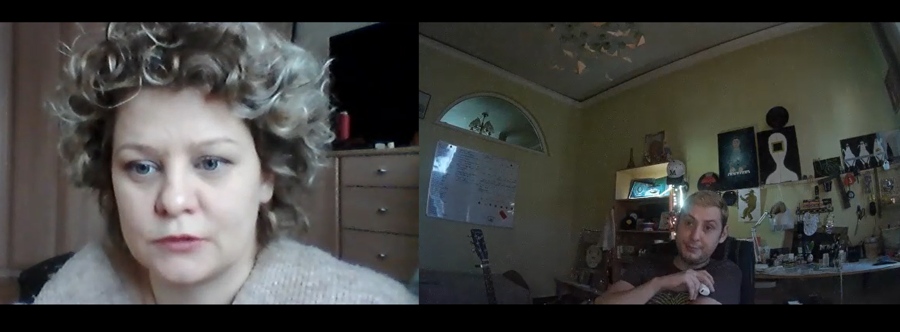
А. Т. Поговорим про новую этику…
А. Б. Я себя не чувствую компетентной в этой сфере. Я еще раз могу сказать: самая страшная штука, в том числе в обсуждении каких-то сложных, глубинных общественных процессов, — это упрощение. Это путь к деградации, и я боюсь на этот путь встать. Я вчера начала листать книгу про новую этику, которую мне посоветовали в фейсбуке, это сборник научных статей российских экспертов, социологов, культурологов. Еще в предисловии они говорят про сомнительность этого термина, под которым на самом деле подразумевается огромное количество противоречивых позиций, явлений. Термин — условность, необходимая, чтобы обозначить предмет разговора, и только. Я не специалист, и мои трактовки и ощущения абсолютно интуитивны. Думаю, что довольно парадоксален тот факт, что в стране, где большие проблемы с толерантностью, с пониманием личных границ, с признанием ценности личности как таковой, с впечатляющим уровнем домашнего насилия мы ведем разговоры об издержках толерантности. Хочется как-то сразу всех успокоить и сказать, что до издержек нам точно далеко. Да, появились разговоры, по крайней мере, в наших кругах: «Ой, так нельзя себя вести, меня будут ругать приверженцы новой этики». Они, скорее, ернические, эти разговоры, но даже это неплохо. Это уже рефлексия. В театре принято какие-то некрасивые вещи, связанные с иерархическими отношениями, с психологическим насилием оправдывать обаянием творчества: «Зато он талантливый!» И в этом смысле новая этика, при всей взнервленности дискурса, хоть что-то предлагает положить на другую чашу весов.
А. Т. Например, в моем случае это необходимая мера. Я рос в традиционной системе координат — «будь мужиком» и так далее. Довольно поздно я попал в тот круг, где это уже не считалось нормой, и я чувствую, что мне необходим этот самоконтроль. Не потому, что я люблю «харассить» людей…
А. Б. Все мы любим, что уж скрывать…
А. Т. Просто есть вещи, которые ты не всегда отслеживаешь, просто нет этих понятий в твоей корневой папке.
А. Б. Да, приходится прилагать усилия. Уже не очень прилично вроде бы делать как удобно — просто потому, что привык. Это отличный тренинг.
А. Т. Театр во время и после пандемии. Предсказания были разные — что традиционный театр умрет и так далее. Как тебе кажется, что реально изменилось?
А. Б. Нет ответа. Чтобы делать какие-то выводы, нужна другая временная дистанция. Ты приводишь эсхатологические примеры, а я помню восторг: «Театр изменится и уже никогда не сможет стать прежним!» У меня не было такого ощущения. Да, круто было наблюдать заход на неизвестную цифровую территорию, для театра это был мощный толчок, но все-таки понятно было, что как только эта необходимость — осваивать Интернет — исчезнет, по закону инерции все схлопнется. Инертный организм вернется в привычные для себя формы. Предсказывали, что теперь-то уже невозможно будет ставить и играть то же самое, но ничего: единственная забота сейчас — вернуть стопроцентную рассадку. Какие-то изменения, какие-то попытки исследовать новый мир, который нам предложен, наверное, можно нащупать только в выборе материала, в темах. Но, честно, я не очень-то знаю, что происходит на цифровом поле сейчас, после всплеска времен карантина. Периодически слышу про какие-то проекты, лаборатории, про кружок цифрового театра Ивана Демидкина. Так что все равно что-то происходит. Цифровое пространство во время карантина напомнило нам о демократичности театра, о доступности, о подвижности и независимости.
И речь не только про внешнее, но и про внутреннее. Проекты, которые были представлены на фестивале «Точка доступа», показали, что переносить старые формы на новые платформы — тупиковый путь. Нужно искать какую-то другую коммуникацию со зрителем. Не зря появилось так много проектов face-to-face, с непосредственным общением перформера с конкретным человеком. Фокус внимания в хорошем смысле сузился. В обычном театре, с залом и сценой, быть подвижником, искать новые формы, когда и старые вроде работают, сложно. А в цифровом пространстве старые формы не работают, оно требует перепрограммирования мозгов у художников.
Расшифровали Анна Банасюкевич и Оксана Кушляева




Комментарии
Оставить комментарий