«Я рос на улице»
Сегодня у нас лонг-лонг-рид, вопросы татарскому театроведу (и многое другое) Ниязу Игламову задает режиссер Александр Кудряшов. Нияз рассказывает о жизни в искусстве, о национальном театре и политике, о ризомности современного сознания и мультифункциональности критики. А также раскрывает бесконечно волнующую нас тему телесности. Обращаем ваше внимание, что как ультраанархистское издание мы не цензурируем наших героев и публикуем все интервью практически без купюр.
Александр Кудряшов. Доброе утро, день, ночь. Сегодня мы разговариваем с Ниязом Игламовым, экспертом, членом жюри «Золотой маски», завлитом, как я уже понимаю, уже бывшим, Театра Камала и многое-многое другое.
Нияз Игламов. У нас есть семь-восемь минут для перечисления моих регалий?
А. К. Да-да, давай.
Н. И. Шучу я. Давай дальше
А. К. Мы знакомы уже несколько лет и не раз пересекались в поле профессиональной деятельности, когда Нияз проводил обсуждения моих работ. Теперь мне захотелось, чтобы и другие лучше познакомились с Ниязом.
Расскажи про то, как приходят в профессию, и про то, как ты стал театральным критиком.
Н. И. На самом деле я случайно пришел. Я рос на улице, практически дома не жил. У меня была бурная юность. Но все равно, когда ты заканчиваешь школу, надо определяться. Мне всегда очень нравилась медицина. Но в медицинский я не поступил, потому что именно в 1993-м в качестве вступительного экзамена вместо химии ввели физику, а я не был к этому готов. В медицинском конкурс тогда был совершенно дикий. Баллы я не набрал и на следующий год поступил в ветеринарный институт. Родители меня поддержали, потому что для тех лет это была очень хлебная профессия. У меня отец театральный критик. И в то время мы жили не то что бедно — с бедностью можно как-то смириться, — но бесперспективно. Я чувствовал это по настроению отца. У него в самом начале восьмидесятых были звездные годы. Он защитил диссертацию в Ленинграде, причем уже после смерти своего руководителя Сахновского-Панкеева, сразу стал преподавать, сразу стал доцентом, получил кафедру и множество других плюшек. Он всегда был демократ, человек стихийный, и это мне передалось. Помню, в 1987-м мы были в Доме отдыха актера в Мисхоре. И приходили журналы «Огонек» в библиотеку, их все рвали друг у друга: в одном — реабилитация Бухарина, в другом — Федора Раскольникова… были надежды. А потом, в 1992-м, эти надежды куда-то ушли. Потому что профессия — зависимая. Хотя Павел Марков, когда на лекции режиссеры ему сказали, что вот де «критика, вспомогательная, служебная дисциплина, не будет театра, не будет и вас», ответил им: «Не, ребята, когда театр умрет, мы, критики, еще двести лет будем спорить, от чего он умер».
Так что дело не в том, что профессия дополнительная, а в том, что она очень тесно связана с процессом. Если процесс замирает, как произошло в Казани в начале девяностых, замирает и рефлексия о театре. Так что отец очень приветствовал, что я выбрал ветеринарную стезю. Я начал учиться, хотя пришлось брать и академотпуск, и под арестом я оказался (очень разные были ситуации в девяностые годы), потом я восстановился, окончил, диссертацию защитил, работал на кафедре акушерства и гинекологии мелких домашних животных. Потом я поступил на работу в ветклинику, начал зарабатывать, был доволен и собой, и окружающим. Но в 2000 году отец перенес инсульт очень сильный. У него начались проблемы с головой, с конечностями, мы с мамой не понимали, что происходит. И вот когда я наконец поехал с ним в клинику, прямо по дороге он перенес первый инсульт. А уже в больнице — второй. В оба полушария его ударило. И ментально он очень сильно пострадал. А прожил он в таком состоянии шестнадцать лет, и это все на меня сильно повлияло.
А в 2001 году ему должно было исполниться шестьдесят, юбилей, и он писал докторскую в тот момент... И вот мама мне и говорит: давай соберем все его работы (а архивы у него были разрозненные) и издадим. Ну, и я взялся за это дело. Вышел довольно объемный труд, двадцать пять авторских листов. И когда я начал литературную правку, то очень увлекся, оказалось, что исследователь театральной старины и описыватель театрального процесса (тогда я так не думал, это я сейчас в таких категориях говорю) — это очень интересно. Я начал по-другому на театр смотреть. Тогда у меня еще и профессиональный кризис произошел. Я очень хотел заниматься наукой, физиологией. Но на тот момент (да и сейчас) это было никому не нужно, на исследования не давали никаких денег. Хотя как доктор я остался, у меня была своя клиника, в которой я был и врачом, и исполнительным директором, и пайщиком.
В общем, я понял, что театр — это интересно. И решил поступить в СПбГАТИ. Я туда поступал не для того, чтобы кем-то стать. Я уже был кем-то, я был известный врач. У меня был сертификат по лечению животных, находящихся в неволе и в дикой среде. Единственный в Поволжье. Всяких там экзотов, барсов и страусов. Я шел не за дипломом, а чтобы попробовать свои силы и проверить, надо ли это будет кому-нибудь у меня в городе, в республике. Потому что я понимал — как бы благополучно ни складывалась моя карьера, я не буду связан ни с Москвой, ни с Питером. Надо было ухаживать за отцом.
И вот практически с первых лет учебы у меня начали выходить статьи и в центральных изданиях, и в местных. Но, главное, моя работа стала востребована у нас в республике. Фарид Бикчантаев, главный режиссер Театра Камала, позвал меня к себе на курс читать историю драматического театра. Чтобы по-современному, а не так, как иногда до сих пор читают даже в столичных вузах, где современность заканчивается Джоном Осборном и редкий педагог доплывет до середины Макдонаха.
Вообще я считаю, что классическое театроведческое образование испытывает кризис. У нас принято хвастаться тем, что там, на Западе, — или кабинетные ученые, или те, кто занимаются процессом, критикой. А у нас все многофункционалы, могут и так, и этак… С одной стороны, универсализм наших отечественных театроведов безусловен, а с другой стороны, для науки очень важны правильные дефиниции, какой термин подкладываем под то или иное событие, под тот или иной тип театральности. А у нас куча слов: и роль, и образ, и характер, и актерское создание… Куча синонимов одного и того же. А почему? Потому что у нас театровед — он же еще и критик. И на первом курсе института тебе рассказывают, что в одном абзаце рецензии слово «образ» не должно встречаться дважды. Используйте синонимы. Из-за нацеленности на художественность размываются чисто театроведческие дефиниции.
Я помню, когда вышел театральный словарь Патриса Пави, где все описано с позиций французского структурализма и постструктурализма, где очень много семиотической терминологии, были все эти разговоры о том, что «зачем так сложно, все же можно сказать на простом русском языке». Но если на простом, то рассеивается научное содержание. Поэтому профессиональная дифференциация нужна. И историю театра, как мне кажется, надо преподавать не от Древней Греции, а исходя из того, насколько в современном театре востребован тот или иной тип театральности, постоянно сопрягая историю с современностью.
Во многих театроведческих мастерских по-прежнему преподают по методичкам XX века. А жюри всяких конкурсов, как правило, люди старшего поколения, в очередной раз говорят экспертам, например, «Золотой маски»: ну зачем вы опять привезли это свое партиципаторное? Или «это вообще не театр». Я не эйджист, славу богу, есть люди вроде Риммы Павловны Кречетовой, которые дадут фору молодым. Я помню, как рождался «театр post», феномен Дмитрия Волкострелова. Вполне серьезные люди долгие годы говорили: «Да ладно, да какой же это театр? У театра есть классическая структура». А мы живем сейчас в очень плюралистичном мире, когда традиционные структуры перестают работать. Территория театра — это территория многозадачности. Я сейчас имею в виду даже не творческую часть, творческую группу, а сам механизм театра, людей, которые обеспечивают процесс. Потому что просто на хороший театр сейчас люди не ходят. А билеты сами себя не продают. Мы существуем в условиях жесткой конкуренции с индустрией досуга.
Возвращаясь к теме. Вот так я и пришел в театр. И как-то это дальше идет и идет. В основном я специализируюсь сейчас на жанре устной рецензии. Занимаюсь продюсерской и кураторской деятельностью. Это на самом деле мне очень нравится — открывать новые имена и зажигать звезды. Но не хочется повторяться. Вот, например, мы придумали и провели с директором татарского ТЮЗа лабораторию. Первый раз прошло отлично, второй раз прошло отлично, в третий раз мне уже неинтересно — потому что все уже отлажено и работает. Мне все время хочется уходить от стандартных форматов.
А. К. Ты начинал писать в начале 2000-х, застал несколько времен, несколько эпох. И мне хотелось бы, чтобы ты сравнил театроведение того времени и театроведение сейчас. Можно его не рассматривать в ретроспективе или перспективе, а просто взвесить на весах.
Самая главная перемена — мир стал открытым. Наши театроведы попали сначала хотя бы в Польшу, а потом в Авиньон, в Эдинбург, в Зальцбург и поняли, что не одним Товстоноговым мир живет.
В 1970-е годы у людей не было иного контекста, кроме советского. Сегодня, когда происходит прорыв в сфере научной, технологической, он сразу становится достоянием всего мира. Тогда было время лонгридства, долгого чтения, когда медленными зимними вечерами люди что-то неспешно читали, переворачивая страницу за страницей, например книгу Рудницкого о Мейерхольде. Я Рудницкого люблю и уважаю, но так сейчас не пишут, когда хотят, чтобы читали. Просто было совершенно другое время. И оно иначе структурировало театроведческую мысль.
Сегодня очень яркие сжатые тексты, и очень многое в них воспринимается на уровне тезисов, без доказательной базы. Вот Кристина Матвиенко, перед которой я преклоняюсь, защитила диссертацию, в которой на очень серьезном уровне прослеживались взаимоотношения кино и театра. Сейчас она больше занимается критикой и кураторством.
Сегодняшний ритм жизни почти никому не позволяет заниматься серьезным исследованием. Исследованиями сейчас занимаются в основном те, кто не очень ориентируется в современном театре. Для того чтобы написать нестыдную работу, ей надо посвятить два-три года. И эти два-три года тебя должен кто-то обеспечивать: или муж/жена, или родители. И поэтому многие умные люди театроведческой профессии ходят сейчас без диссертации и, скорее всего, никогда ее не защитят. Просто потому, что они активно вовлечены в театральный процесс. Потому что те, кто существует в режиме фриланса, живут от заказа до заказа, от фестиваля до фестиваля, от одной публикации до другой. Прожить на эти деньги почти невозможно. Поэтому большинство людей нашей профессии идут работать в театр — завлитами или заместителями директора по тому или иному вопросу. А когда ты занимаешься разными активностями внутри театра, на другое у тебя просто времени не остается. Так вот. В статье, например, Кристины разбросаны тезисы, которые она подмечает и атрибутирует двумя-тремя «штришками». На уровне статьи читается, но если разворачивать все это в исследование, то выводы могут быть и другими. И мне кажется, она сама это понимает.
В иной реальности, в иных условиях Кристина была бы какой-нибудь Эрикой Фишер-Лихте или Юлией Кристевой. В ее фарватере шли бы толпы учеников, и брошенные ею семена доводили бы до ума. А сейчас она просто генерирует идеи, которые ей некогда проверить, теоретически обосновать и ввести в серьезный научный оборот.
Сегодня умерли очень многие институты и видоизменились многие профессии, существовавшие в советское время. А театроведение очень долго хранило преемственность. Но сегодня поменялись все традиционные конвенции. Кого из коллег ни коснись, буквально несколько хорошо устроены, работают в крупных театрах или сотрудничают с коммерческими изданиями. Перед остальными остро строит проблема заработка. В том числе поездками в театр, обсуждениями спектаклей. Театрам же в большинстве нужен не анализ, а доверительное общение, рецензия или письменный обзор. С одной стороны, экспертная оценка, а с другой стороны, общение с критиком для них — возможность попадания в какое-то фестивальное, конкурсное поле. Создавать связи — в этом наша сейчас функция, а не в писании летописи современного театра. Мне кажется, в большей степени летопись современного театра сейчас создают блогеры.
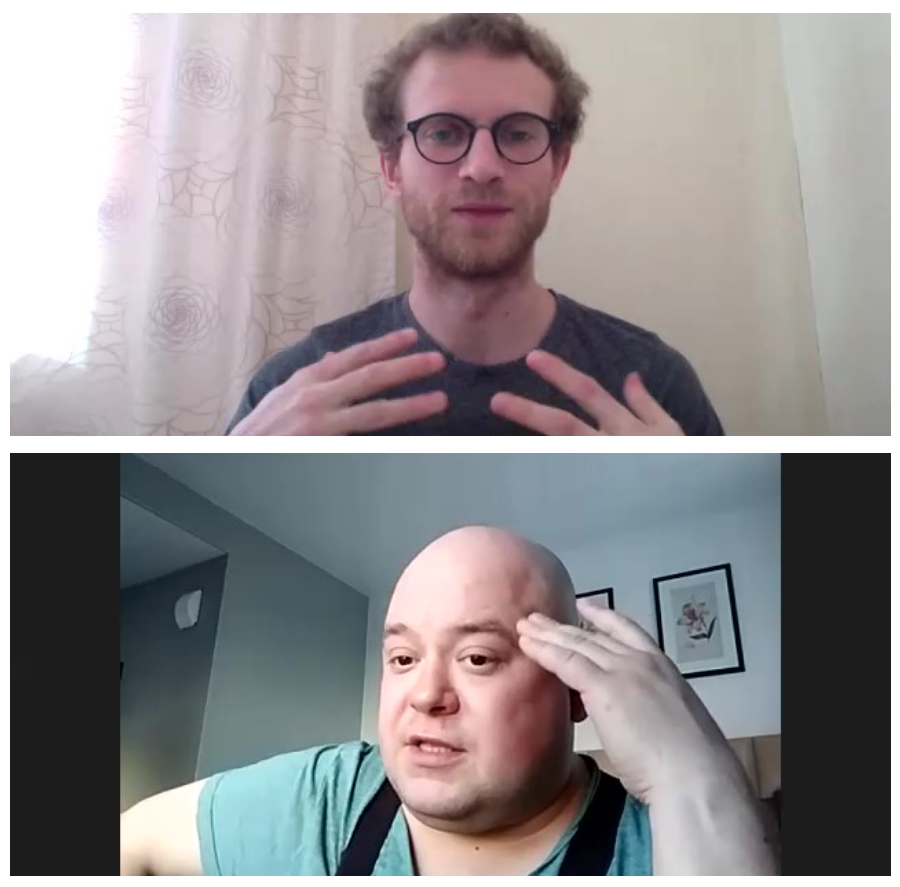
А. К. Вот об этом я и хотел тебя спросить. Об отличии театральных блогеров от театральных критиков.
Н. И. Мне кажется, отличие в мере ответственности. Блогер ни перед кем не отвечает, кроме своей аудитории. А у критика есть учителя или коллеги, которые могут сказать: «Фу, Нияз, какую хрень ты написал». И тогда стыдно. У блогера его стыд и слезы и его недостатки — это количество лайков и подписчиков. Блогер изначально пишет просто, не заточен на лонгриды. В блогах не описывается спектакль, это короткие заметки, в которых задаются параметры спектакля, выявляются атрибуты.
Вот, я, например, недавно сошелся недавно в клинче с коллегами. Мне кажется, наличие качественного видео спектакля делает сегодня описательные места в рецензии необязательными. Зачем описывать пространство, костюмы, сценографию, если твою статью сопровождают тридцать шесть качественных фото?
Я лучше опишу, как это пространство взаимодействует с темой, как в нем выстраиваются мизансцены, как оно живет вместе с актерскими интонациями. Фото не передает движение, а я могу это движение ухватить. А блогер об этом не думает. У него лучше получается или игру актерскую описывать, или визуальность, или режиссерские концепции. Кто-то проникает в эти смыслы легко и быстро, но там нулевая доказательная база. Блогерство — это институт рекомендаций и оценок. А любая критическая работа строится по принципу «тезис — антитезис — доказательство». То есть это классическая формула риторики, перенесенная на бумагу. Ты обостряешь проблему, погружаешь ее в большой художественный контекст и дальше делаешь какой-то вывод. И если ты работаешь по приглашению театра и выступаешь в жанре устной рецензии, ты должен быть в этом смысле безупречен. Потому что тебе заплатили за работу, а ты нес какую-то пургу. А для блогера это хобби и удовольствие. При том что мы все живем в информационной ризоме и любой шум очень важен. Интернет — штука посильнее, чем книгопечатание или изобретение радио. Это буквально новая религия, особенно если знать, что re — ligio с латыни переводится как «воссоединение».
Интернет переменил мир и переменил театр. А блогерство очень многое переменило в интернет-среде и в театральной среде. Потому что Интернет — это структура, в которой нет центра и периферии, нет иерархии. Все существует в системе и зависит от ее функций.
Винер и ряд других исследователей дали исчерпывающее определение системы: что все сущее существует в виде динамической системы соподчиненностей и иерархий. У традиционных структур есть центр, главное и второстепенное, есть последовательность цепочек, как в линейной драматургии. Но может быть много других вариантов. И тогда, в начале семидесятых, Делёз и Гваттари, сами того не зная, описали будущее. В Интернете нет иерархий! Любой человек может написать любую х…ню в меру личной ответственности, как Виктор Вилисов, например. Он начитанный и насмотренный. И поэтому на тех, кто не читал и не смотрел, он производит впечатление. Но на человека, у которого фундаментальные знания есть, он будет производить впечатление проходимца. Хотя Вилисов важный проходимец. Он очень сильно всколыхнул и поляризировал нашу театральную тусовку. Наличие Вилисова заставило наше комьюнити пересмотреть основы и критерии профессии. Нужны время от времени такие блаженные, которые вопят и всех ругают, — для того чтобы те, кто себя считают нормальными, посмотрели на себя со стороны.
Хотя лично мне Вилисов кажется бедным мальчиком с очень скудным диапазоном театрального мышления, очень зависимым от тенденций и мод, которые не несут в себе какого-то субстанционального начала.
А. К. А вот давай про это и поговорим. У меня есть впечатление, будто каждый новый сезон объявляется новая модная тенденция, новая повестка. Вот сейчас, например, про экологию много. Но про экологию думали много и двадцать, и тридцать назад. И повестка эта кажется притянутой. Скажи, насколько важно попадать в тенденцию?
Н. И. Да, каждый новый сезон обнажает какие-то тенденции. Мысли носятся в воздухе. И наиболее очевидно это на примере каких-то классических пьес. Все знают, что у Шекспира тридцать семь пьес. Но есть такие, которые ставят постоянно. А есть такие, в которых внезапно возникает потребность, а потом о них опять забывают. Например, «Укрощение строптивой». Если какой-то творческий театр начинает в XXI веке ставить «Укрощение» или какую-нибудь испанскую комедию плаща и шпаги, в которой «баба — не человек», ее обманули, обесчестили, но потом все-таки подвели хер к носу, замуж выдали — и вот она стала «человек», стала «чьей-то», это что-то да значит. Для нас это средневековое сознание, средневековый человек. И неужели сегодня мы полезем учить Тирсо де Молина жизни с позиций сегодняшнего радфема? Да нет, конечно. Но если сегодня режиссер берется за «Укрощение», то только потому, что материал как-то откликается на идею равенства полов. И это нормально.
Раньше противостояние в критической среде ярче было. Например, на одном полюсе — почвенничество, на другом полюсе мнение, что все, что ни придет к нам из Европы, — это божественный свет. И пятнадцать-двадцать лет назад, когда, например, возник фестиваль «NET», жить можно было, только приняв ту или иную сторону. Сегодня все полюса и противники объединились, мы отстаиваем одно и то же — здравый смысл. Все, кто против, — уже мракобесы. То есть не могу же я всерьез сегодня воспринимать тексты авторов сайта «Антикритика». Это уже даже не смешно. Пятнадцать лет назад безумный государственный принтер еще не печатал все эти безумные законы. Пятнадцать лет назад мы не понимали, как хорошо мы живем. Один только Ходорковский сидел… Сейчас сидит пол-России непонятно за что.
Я читал документы по большому террору 1937 года непосредственно всего того, что происходило в Татарстане. Там была понятно, какая логика: позавчера пришли за бывшей монашкой, вчера — за учительницей, сегодня мы возьмем простого работягу, а завтра — начальников всех татарских профсоюзов. И элита, и пролетарии попадали под один замес. А в позднесоветское время можно было быть писателем, и успешным, при условии, что не публикуешься на Западе. Например, Юрий Трифонов, на мой взгляд, величайший писатель второй половины XX века, он был отлично встроен в модель советской эстетики, в поведенческую модель советского интеллигента. Он был во фронде по отношению к государству, но не становился диссидентом. А если ты был диссидентом, то не получал ни гонораров, ни публикаций. Все было понятно, были какие-то правила игры.
Сегодня ты просто идешь по улице, и тебя могут ни за что принять «космонавты», как это было недавно в Казани. И хорошо, если ты отделаешься штрафом в десять тысяч рублей.
Наше время очень сложно описать. Никто ни с кем не борется, все мирно сосуществуют в борьбе за ресурсы. А ресурсы у нас все государственные. Даже независимые театры живут на государственные гранты и дотации.
Я крайне уважаю гордость этих маленьких театров, которые часто говорят честные и важные вещи. Но только пусть не делают вид, что они полностью независимы.
А. К. Я хотел тебя спросить о прениях на Facebook и о том, как они могут повлиять на реальную жизнь очень. Тот же самый многострадальный манифест Богомолова про похищение Европы, который породил много-много откликов. Мне кажется, соцсети — это крутой феномен.
Н. И. Последнюю неделю все говорят о Clubhouse. А до этого был Тik-Tok, в который я и так уже был не ходок. Слишком много всего, а я хочу быть в ладу с собой и не гнаться абсолютно за всем. Утомленность — это тоже одна из возможных компетенций критика.
Про Богомолова. Мы познакомились восемь лет назад, и в тот же день я все про него понял. Это был марш против «закона Димы Яковлева», против «закона подлецов», вышли все, была большая тусовка театральных людей: Мирзоев, Гинкас, Янковская, педагоги ГИТИСа. И нас, между прочим, с Богомоловым Анна Степанова, педагог ГИТИСа, познакомила. И на Косте, помню, была такая футболка с изображением «нашего дона Рэбы» со смешной надписью. И вот толпа нас несет по Страстному в сторону Трубной, и внезапно мы с Аней Банасюкевич понимаем, что Кости с нами уже нет, помахал рукой и ушел. И тогда я понял, что это просто такой человек жеста, которому было просто важно обозначить свое присутствие. И что ни за какие идеи он умирать не пойдет. И, думаю, он всегда был таким.
Его спектакль «Идеальный муж» — это такая обтекаемая конструкция, которой может аплодировать и Мединский, и Гусинский, и Абрамович, и Ходорковский.
Это спектакль и для свергателей, и для укрепителей режима. Он амбивалентен, как амбивалентен Богомолов. При этом он едва ли не единственный в России режиссер, который умеет точно, детально и результативно работать с любыми актерами в системе конвенционального театра, существования актера в роли. Этого у него никто не отнимет.
А «манифест» я не читал. Жизнь слишком одна, чтобы отвлекаться на все на свете. Мне кажется, ты просто неправильно ставишь вопрос, что «вот эта хрень» пробирается в реальную жизнь. Потому что это реальная хрень. Потому что Константин — гений мимикрии. Это реальная жизнь заставляет его вести себя так. Он раньше почувствовал полный п…ц, чем зуммеры и миллениалы. Потому что подключен к этому — через Собчак. Для большинства людей, которые там наверху принимают решения, он же никто, какой-то режиссеришка. Для них. А для «простого народа» он только муж своей жены. Собчак-2, как недавно заметил Александр Невзоров. Богомолову это не может нравиться, и он хочет это изменить.
На все, что о нем думают эти зуммеры и интеллигентные девушки неопределенного возраста, влюбленные в его творчество пяти-десятилетней давности, ему абсолютно насрать. И вот девушки плачут, а Звягинцев или Вырыпаев ведется на эти слезы. А идеально было бы не заметить. Константин, он в душе своей давным-давно написал этот манифест. И, конечно, он так не думает и в это не верит. Но он знает важных людей, которые могут в это поверить.
Ему по силам сделать из Малой Бронной новый МХТ или Таганку — тех времен. Поэтому единственное, на что он может и хочет претендовать, это чтобы его замечали важные люди. А эти все Звягинцевы… это просто смешно — всерьез бороться с симулякром.
А. К. Еще по поводу прений на Facebook. Я конечно, на половину людей не подписан, но что там произошло с «пресловутым календарем» «Летающего критика»? Кто-то кого-то обвинил, что девушки слишком голые?
Н. И. Не так все было. Ну, сумму мнений озвучила Марина Дмитревская. Взяла весь огонь на себя. Дело в том, что телесность в этом календаре сопряжена с профессией. Марина Юрьевна возмущалась: а вот почему они просто не сфотографируются? Почему они акцентируют, что они критики? Почему они профессиональное мешают с телесным?
Девушки отвечали: потому что это наши тела, и то, как мы их стыдимся или не стыдимся, тоже формирует нашу профессиональную идентичность. Одно без другого не существует, наше тело имеет право на существование так же, как и наш мозг. Мы не бесполые. Мы не бестелесные. И мне их позиция ближе, чем позиция Марины Дмитревской, которую я продолжаю нежно и трогательно любить.
Я был в Питере как раз, когда шла фотосессия и приезжали модели из разных городов, Оля Тараканова, Оксана Ефременко, Лена Ковальская. И, конечно, это цвет современной русской критики, не просто прекрасные, но и умные значительные женщины. Для меня они являются серьезными ориентирами в профессии. Видя их интеллект, невозможно относиться к себе как к интеллектуалу. А видя их красоту, невозможно смотреть в зеркало. Меня спасает только то, что я другого пола и на этой территории с ними не конкурирую.
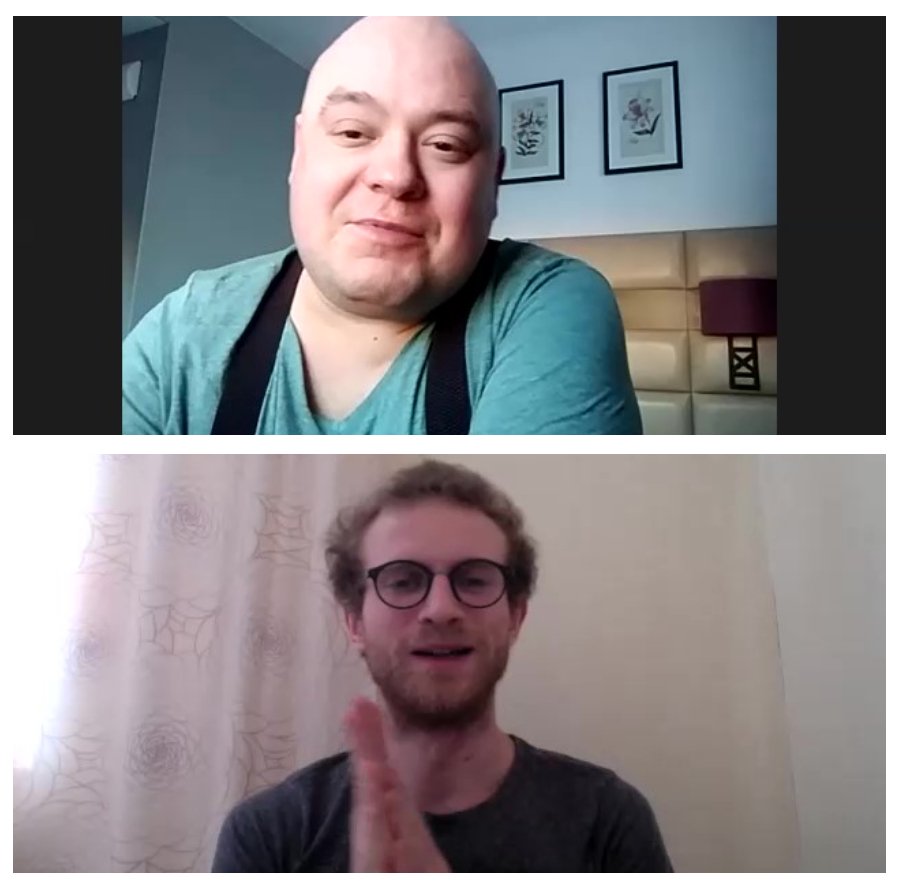
Там большинство девчонок — поколения X, это мое поколение тоже. И появление календаря меня только радует. Для традиционной глянцевой сексуальности они могли бы сняться десять или пятнадцать лет назад, до всех детей, растяжек и морщин. Но они этим календарем постулируют право позволить самим себе быть красивыми, быть телесными, быть собой. И при этом быть критиками. Ну, есть у критиков половая принадлежность, и что теперь с этим сделаешь? Ну и взгляд — и сексуальный, и терзающий, но за этим взглядом все равно мозг с огромным количеством извилин.
В общем, я очень обрадовался и пошутил, что теперь нам с Олегом Лоевским, Александром Висловым, Павлом Рудневым, Антоном Хитровым и Алексеем Киселевым надо сделать свой календарь. Я под любые авантюры всегда подпишусь…
Любой театр как институт или как сообщество профессиональных людей, что бы он ни делал, делает для расширения своей аудитории. В этом его свобода. Чем богаче театр, тем реже гнется спина его худрука или директора. Если человек в себе уверен, он меньше идет на компромиссы. Наличие зрителей и востребованность у них имеют социокультурный и экономический эффект. Почему я об этом говорю в контексте календаря? Даже если дальнобойщики повесят у себя в салоне машины Кристину Матвиенко или Татьяну Джурову, все равно это «к вам в гости пришел театр». Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что нет прямой последовательности ходов. В жизни все опосредовано.
У нас в Казани есть «Угол» («Живой город»), где работала PR-менеджеркой такая Альбина, которая потом перешла в другую организацию. Так вот, на «Свияжск-артель» она ехала на такси с водителем из Средней Азии и так ему натрещала про театр и лабораторию, что он тоже пошел смотреть показы. Это работает. Как индивидуально, так и в массовом порядке. Если некоторое количество дальнобойщиков вдруг начнут дрочить на наших коллег, то однажды кому-то из них вздумается пойти в театр. Даже если это театр из Ставрополья.
Это правильный поступок, это расширение границ. Театры часто позиционируют свою элитарность. Но рождался-то театр как искусство эгалитарное, как искусство для всех. И любая популяризация театра кажется мне полезной и нужной.
Я горжусь своими подругами. Но и ответный ход не заставит себя ждать… Мы напрасно слишком серьезно относимся к тому, что делаем. И то, что театр — самая главная хрень на земле, вовсе не значит, что мы должны относиться к нему слишком серьезно. Иначе у нас суставы забронзовеют.
А. К. Тут можно было бы и закончить. Но невозможно тебя не спросить о таком: ты — один из немногих людей, кто занимается развитием национальной культуры и национального театра. Сможет ли национальный театр когда-нибудь восприниматься наравне с российским, без колониально-покровительственного оттенка?
Н. И. Да, действительно, отношение к национальному театру несколько такое, шовинистическое, как к экзотике. Хотя в этом году в конкурсной программе «Золотой маски» два национальных театра, а два года назад было три. И эти театры гораздо интереснее, чем среднестатистический провинциальный российский театр. Не только по уровню спектаклей, исполнительскому и режиссерскому, но и еще по количеству проектной и популяризаторской деятельности.
Наверное, такое отношение «сверху вниз» коренится в природе русского человека, которая в огромном количестве случаев несет в себе следы крепостного рабства. Но людям не нравится быть рабами. Никому не нравится, когда тебя продают. Поэтому власть имущие канализировали веками копящуюся агрессию простого народа на инородцев и иноверцев. Наверное, ни у одного из народов нет такого количества обидных прозвищ для своих сограждан: «чурки», «черножопые», «хачи», «косоглазые». Это огромные последствия той политики, которая закладывалась еще в имперские времена. Русский народ гораздо стремительнее урбанизировался чем другие народы России. А катастрофическая урбанизация привела к утрате феномена русской деревни. Сейчас нормальную русскую деревню можно встретить или на крайнем Русском Севере, или на самом аграрном юге. В центральной России это или область дожития местного населения, или дачные поселки москвичей. Но это все однозначно «вишневый сад», который пошел с молотка уже очень давно. А у нас в Татарстане крепкие деревни и аграрный фактор очень важен. А человеку, оторвавшемуся от корней, с маргинальным сознанием, который грустит о потерянном рае своей деревни, ему очень важно в качестве компенсации подтрунивать над каким-нибудь инородцем, неважно говорящим по-русски.
У нас в республике крайне обострен этот фактор, особенно с приходом «русской весны». У нас есть «орки», Общество русской культуры (что-то вроде Союза Михаила Архангела), который, весьма вероятно, поддерживается определенными службами. И это преподносится как борьба с исламским фактором. У нас все силовые структуры отчитываются по принципу плановой экономики. И если у тебя в плане каждый месяц надо увеличивать на 3,2% раскрытие преступлений, значит, эти показатели будут подгонять любыми методами.
Поэтому такой взгляд на национальный театр. Причем не у профессионалов. Профессионалы никогда не будут говорить о национальных театрах в целом как о каком-то говне или чем-то однозначно хорошем. Такие разговоры в основном по части обывателей.
Например, с начала 2000-х годов между Театром Камала и Малым подписан договор о постоянных обменных гастролях. Им это выгодно, потому что они собирают наш зал и хорошо зарабатывают. А нам выгодно, потому что мы можем не платить аренду по московским расценкам. И было все нормально, но вот в 2016 году, уже после «русской весны», мы приезжаем в Москву, играем спектакли, и вдруг скандал, какая-то подвыпившая компания зрителей, «почему в центре Москвы какой-то непонятный театр, да еще и не на русском языке играет». И куча жалоб, в том числе Юрию Мефодиевичу Соломину. А он советский вполне человек интернациональной закваски, ему такие жалобы показались, мягко говоря, странными. Русское общество шовинистично не только к инородцам, но и к «бабам», непослушным детям, хорошо одетым креаклам. Все это быдлячество — показатель собственной ничтожности. Если человек уверен в себе, то он не бьет жену из-за собственных неудач. Было бы, конечно, совсем прекрасно, когда бы эти свойства натуры были присущи лишь одному народу. Увы, всем нам это присуще. Но кто тут у нас государствообразующий?
У нашего же татарского народа колоссально расщеплено сознание. Народ дезориентирован. Очень много обрусевших татар, которые говорят, что им не нужен их язык. Язык вымывается, язык запрещается, система ЕГЭ убивает среднее образование на национальных языках. Раньше во многих республиках были пединституты, где образование шло на татарском или, например, башкирском, потом их слили с головными университетами, переформатировали, и теперь для того, чтобы попасть на факультет татарской истории-филологии, ребенок должен успешно сдать ЕГЭ по русскому языку. Тем более что из восьми-девяти регионов-доноров, которые кормят всю страну, три или четыре — это национальные республики. По конституции РФ они самостоятельные государства в рамках единой федерации. Эту статью конституции, кажется, еще не отменили.
Сегодня все видят феномен татарского театра и татарской культуры. Но будущее меня печалит. Та степень унижения, которую федеральные власти проявляют по отношению к национальным республикам, — это закладка очень серьезных мин на будущее. Так же, как национальная политика Сталина через семьдесят лет аукнулась Карабахом. Я ни к чему не призываю, конечно, не стращаю! Просто очень хочется, чтобы весь этот морок прошел стороной, развеялся. Мирным путем. Но сегодня, используя красивую риторику, подкупая, как обычно, «старейшин» и «вождей», нас пытаются насильно ассимилировать. И если раньше резервуаром сохранения татарского языка была деревня, то сегодня в связи с ЕГЭ и интернетом — уже нет.
Маргинальный человек опасен в любом государстве, особенно когда маргинализируется целое племя, народ, нация внутри какой-то государственной общности. Имманентное качество человечества — искать свои корни, искать причины своих счастий и несчастий в прошлом семьи и рода. И это не обязательно национальная идентичность, она может быть региональная или районная. Мы же понимаем, что русские поморы, русские аграрного Ставропольского края или русские Урала отличаются друг от друга. И все склонны искать эти корни. А человек, не знающий языка, культуры, искусства своего народа, он часто ищет идентичность в религии. Так срабатывает фактор радикального мусульманского экстремизма. Вот у нас недавно запретили пятничную проповедь (Вягаз) читать на русском языке, потому что при мечетях, где читались такие проповеди, формировался круг людей с определенными взглядами, шел обмен экстремистской литературой. И уж это точно не выдумки ФСБ. Есть целые сайты знакомств, где люди пишут: «я мусульманка, рожденная от кумыка», «я мусульманин, рожденный от татарина». И это очень опасно. Люди измеряют свою идентичность не национальностью, не культурой, а религией. И если представители мусульманских народов отвергают национальность, то, скорее всего, они за халифат от моря и до моря. А этот халифат вырежет «Шарли Эбдо», разрушит собор Парижской Богоматери и проиллюстрирует манифест Богомолова самым лучшим образом. То же самое с монгольскими, буддийскими народами, тувинцами, калмыками, бурятами. Нельзя, лишая языка и культуры, маргинализировать целую нацию. Человек, лишенный традиционной морали, впадает во все тяжкие. Могут сказать: да кто вам что запрещает, общайтесь в семье, читайте свои книги. Но условия таковы, что полноценно ты можешь жить, только подвергаясь ассимиляции.
А. К. Спасибо. Я рад, что ты так подробно об этом рассказал. Можешь дать пожелание театральным деятелям той самой федерации?
Н. И. Нет ничего такого, что я мог бы сказать абсолютно всем. Я всегда предпочитал общаться с конкретным человеком, нежели писать манифесты.
Расшифровала Татьяна Джурова




Комментарии
Оставить комментарий